«London
Control, Aeroflot 268, leaving zone boundry, flight level 360».
«Aeroflot
268, London Control, maintain 360, contact Shanwick Oceanic Control at
125,7».
«Maintaining
360, Shanwick 125,7, good-bye, sir».
«Bye-bye!»
Летим на 767-м в Штаты. Вошли в район
Северной Атлантики.
-
Володь, я посплю?
-
Давай, давай!
-
Поговоришь?
-
Естесс-но.
-
Добро.
Дали
мне второго пилота. Вводится в строй
действующим командиром. Нормальный
мужик и по-английски говорит хорошо.
У меня свой второй пилот - с ума сойти.
Я теперь воспитатель.
То и дело гляжу вниз по привычке.
Атлантика серая, мутная, твердая,
неприветливая. Иногда появляется в
разрывах облаков...
Можно пока подремать. Дальше там по
прогнозу в районе Ньюфаундленда грозы и
турбулентность, не до сна будет.
Привычный гул корабля, кабинное
шипенье. Резкие солнечные блики на
приборных досках.
Подремлю. Вспоминается что-то...
«Из
чего состоит биплан? Не знаешь. Из палок,
дырок и тряпок»,- говорил мой первый
командир Иван Максимович - удивительный
в авиации человек, который почти никогда
много не пил, громко не матюгался и не
наушничал. Начальники «с управления»
любили летать на уху со спокойным
молчаливым Максимычем, не замечавшим
типические безобразия на ухе так, как не
замечает бедуин песчаную бурю.
В стылом домике провинциального
аэровокзала под высоким потолком с
треугольными вентиляторами, которые
вряд ли когда-нибудь крутились, звучал
из динамика, позванивал резонансом в
высоких царапанных стеклах голос Верки
Вашевой, с коей однажды, слегка
пьяненькие, всю ночь на лодочке не
гребли мы, а
целовались,- доносилась отчужденная
аэрофлотовская скороговорка: «...у
первой стойки начинается регистрация и
посадка на рейс местной авиалинии номер
15 Большая Середница-Ундогора-Кежа». И
сразу же вскакивали с пластмассовых
стульев пассажиры, чаще всего одетые в
резиновое и брезентовое, включая женщин,
и торопились к стойке так энергично, как
будто самолет взмоет в воздух
немедленно вслед объявлению.
Верка Вашева, работавшая в «перевозках»,
характер имела покладистый, внешность
довольную и округлую, а нрав к мужчинам
открыто-демократический, за что имела в
порту прозвище «Ваша». Любимая
поговорка ее была «будь проще, и люди к
тебе потянутся» - и люди к ней
действительно тянулись... Иван
Максимович, незаметно склабясь в свои
флотские усы, говорил в этой связи о Ваше,
или Вашке, так: «С Вашкой лишь ленивый не
спал». Это как старый князь у Толстого: «Пруссаков
только ленивый не бил». Из Ваши вышла бы
превосходная полковая санитарка или
маркитантка. Так или иначе мою биографию
Ваша украсила, как первая женщина...
Вот с того домика и пошел отсчет.
Там я начал летать вторым пилотом на
Ан-2 (Иван Максимович называл эту машину
серьезно: «А-эН-2»). Высшей и практически
недосягаемой жизненною целью, настолько
далекой и невероятной, что и подумать о
таком казалось дерзостью, было
переучиться на Ту-134 и уж тогда
неограниченно возить отовсюду вареную
колбасу, конфеты с ликером, мохеровые
шапки, заморские рыбацкие снасти и даже
подсолнечное масло! Да при этом еще
кушать в тропосфере курочку с рисом,
устелив брюки белой салфеточкой, пить «кофэ»,
как говорил Иван Максимович, вдоволь
рассматривать коленки стюардесс - и не
ведать ничего о том, что такое «капот-горизонт»
или «подбор площадки с воздуха», и
никогда не заниматься решением
следующей, допустим, проблемы: как
выгнать из салона выменем назад дебелую
дойную корову?
Пилоты реактивных Ту-134-х были у нас
вышесторонним обществом: у них и отряд
был на втором этаже, словно палата
лордов, а ходили они по АДП всегда такие
отрешенно-озабоченные, погруженные
внутрь себя, что все до одного казались
крупною номенклатурой. Обратишься к
такому, а он сперва мимо глядит, будто не
сразу ощущает, правда ли что-то рядом с
ним происходит, и только со второго
вежливого призыва поворотит на вас
туманный взгляд.
Мы-то были попроще. Отряд наш
располагался на первом этаже, как палата
общин, в двух комнатках эскадрильи с
картами и плакатами, и обращение там
было вполне простецкое, если учесть, что
средний возраст половины пилотов
самолетов А-эН-2 не превышал 22-х лет.
Такой состоявшейся личностью
полагал я себя тогда, что и не верилось,
наяву ли все происходит. Форма на мне (синяя,
тогдашняя красивая, аэрофлотовская!)
предельно торжественная, и носки
стандартные, как у всех (замполит «порол»
за неуставные носки), и вязаная жилетка
имеется, и скрипучие сверкающие ботинки,
и погоны золотистые, и галстук. «Порют»
меня на разборах и просто
при задушевных беседах, как всех -
как положено. И летная книжка моя с
первыми сотнями часов лежит в сейфе
эскадрильи, и на врачебную комиссию
хожу вместе со всеми, переживаю, и
сто грамм после рейса, бывает, выпиваю -
даром что щеки пока еще совсем юные,
нежные, бритвой не напаханные. Я - летчик.
С ума сойти. И сейчас-то иной раз не верю.
В полете, держа штурвал, нет-нет,
бывало, скошу взгляд на свой новенький
погон, когда Иван Максимович отвернется
и по привычке задумчиво глядит на землю,
будто пассажир, да покуривает свой «Беломор».
Летать он мне доверял, и только перед
самым касанием земли не спеша
дотрагивался штурвала и вглядывался
поверх доски, как вглядывается рыбак в
задрожавший поплавок, готовясь в любое
мгновение рвануть удочку.
Мне повезло: в училище незадолго
перед первым самостоятельным я удачно
накатал сочинение на тему «Ленин и
авиация», его даже напечатали в стенной
газете «Молодые крылья», и меня, как
политически, значит, подкованного,
распределили сюда, в местный пассажирский флот. Некоторые мои
друзья (не столь отличившиеся
на поприще политической литературы)
попали «на химию» (т.е. на авиахимработы,
а не на ту «химию»; впрочем, мало
отличалось...), в лесопатрульную, «пожарку»
или на борьбу с вредителями*,
где постоянно происходил беспредел: они
там возили на охоту и прочее распутство
районных властителей, часто сами летали
пьяные, и у них все время имели место
аварийные посадки, «длительные невыходы
на связь», «столкновения с наземными
объектами» (однажды - с банькой на берегу,
натопленной по случаю для дорогих
гостей, и голыми девками в ней),- а то и
летальные исходы, да только не от слова «летать»...
Впрочем, многие карьеристы-сорвиголовы
туда рвались поближе к начальству-благодетелю,
которое могло словечко замолвить, и
тогда появлялся шанс переучиться на Ан-24-й,
допустим - а это уже совсем другие высоты
и пункты назначения.
Мы же - к земле поближе, с картой-пятикилометровкой,
а не с салфеткой
на коленях, пропахшие бензином и с
пейзажем сплошного бездорожья под собой...
Был ли я счастлив тогда? Абсолютно.
Мама в письмах из Москвы умоляла не
спешить жениться, а я еще только с Вашей
познакомился. Но вообще тут было чего
опасаться. Прилетишь куда-нибудь в Пилеж
или Сорогу (от Парижа довольно далеко
будет), а дородные белобрысые девки уже
сидят, как сосредоточенные птицы, на
березовых досках аэродромной изгороди,
случайно не застегнувши верхнюю
пуговичку, и бесконечно смотрят - словно
полнокровные телки на выгоне, смотрят и
смотрят - как бы на облака, а ведь это на
тебя, вглубь тебя они смотрят, в самую
середку метят. И такая готовность к
порыву, к страсти жуткой, романической
стоит в этом синеглазом сгустке, такая
готовность к принятию уз, что сделается
на душе торжественно и важно... Многие у
нас в отряде быстро женились (попробуй
тут уберегись!), и в день первой после
свадьбы зарплаты имели с молодыми
женами неромантические беседы, сразу
разоблачившие как своим содержанием,
так и формой сугубо прагматическую,
сельскую сущность избранниц: получали
мы тогда в месяц от силы по сто пятьдесят
рублей...
Впрочем, все мне нравилось. Старые
пилоты относились к нам покладисто, с
необидной иронией. Между рейсами в
курилке на первом этаже АДП слушали мы
часами всякую аэрофлотовскую легенду и
впитывали ее, как губки, казавшись себе в
такие минуты многоопытными в авиации
людьми, да и действительно быстрее от
того становились ими. Нравился мне мир
карт и полетных схем, нравилась суровая
музыка текста всяческих руководств и
наставлений. Нравилось то, что нужно
было читать приказы по управлению на
стендах с выказыванием несуществующего
знания всей их истинной подоплеки (с
помощью лукавого прищура точь-в-точь как
у Ивана Максимовича). Нравилось делать
то, что всю жизнь усердно делает любой
летчик - заполнять, оформлять
документацию в необычайном количестве и
степени подробности, далеко
превосходящей весьма скромный, в
сущности, характер тогдашней нашей
деятельности. И всюду за все
расписываться - даже такое нравилось.
Блаженно время, когда не надоела еще
рутина ремесла и представляется она
покуда не рутиной, но атрибутом важности
служебного человека...
Большая авиация - для больших людей.
Местная - для «местных».
Аэродром наш был главной гаванью
отрешенного озерно-лесного края.
Вековые сосны, ели дотрагивались лапами
до балконов портовского поселка (за
грибами мы ходили в домашних тапках и не
дальше, чем в район ближнего привода, с
целлофановым пакетом, на суп набирали за
пять минут). Что же говорить об
удивительной дикости местности - хотя и
расположенной на европейском северо-западе,
но совершенно первозданной - над которой
мы летали, как стрекозы?
Подымешься на свои триста метров и
глядишь: всюду, до самого горизонта
туманятся голубые полотна озер,
соединенные между собой витиеватыми
речушками. Густой кудрявый лес
шевелится и, кажется, дышит, как живой.
Каждое его дерево отдельно различимо.
Неприятно коричневеют пространные
болота, будто ржавые пятна, иногда
загадочный темно-розовый лоск покажут
скалы. Изредка проплывет село с куполами,
черными фигурами домов, прихотливой
геометрией изгородей и огородов,
разноцветными россыпями лодок у воды.
Нередко в этом краю идут затяжные
дожди и стеной стоят на небе обильные
слезливые облака - «кучёвка», как
называет их Иван Максимович. Тогда здесь
все делается очень печально и неприютно...
Дороги - наперечет, сверху выглядят
они, как петляющие слабые струйки.
Асфальтовую помню единственную на всю
местность - из города в наш аэропорт. В
дальние деревни весной и осенью здесь
можно было добраться исключительно по
воздуху. Были эти деревни уж совсем глухоманными ячейками
общества... Например, не все жители там
могли назвать дату начала Великой
Отечественной войны или где расположен
Киев; много стариков и старух - суровых, с
бездонными темными глазами - никогда
нигде не бывали дальше самого большого
болота, всерьез верили в оберег и
ворожбу, совершенно не умели читать и
писать, говорили на странном языке - и
русском, и нерусском, столько в нем
содержалось диалекта. Электрический
свет в таких деревнях тоже не особенно
вошел в быт ввиду постоянных обрывов
провода в лесах. Детей из этаких весей
отправляли в конце августа в районные
интернаты - мы их возили. Тоже дикие,
отчужденные, с суровым взглядом это были
дети... Немного неандертальские.
Как я скучаю сейчас по тем местам!
Как бы хотел я еще когда-нибудь полетать
над ними, опять приземлиться на те
глухие поляны! И выпрыгнуть из чрева «антошки»
в то дремучее царство, бесконечно
отдаленное от беспокойств века сего, в
сумрачную сырую дикость...
В салон на таких аэродромах летом
залетали бабочки и непуганые совы. В
тень под перкаль крыла иногда заползали,
струясь, как ручейки, очаровательные
гадюки - ярко-серебристые с витым
глянцевым узором. Иван Максимович знал
места, где было столько медведей, что
люди поблизости селиться по сей день не
могут. Часто пассажирами нашими были
охотники - серьезные небритые мужики с
зачехленными двустволками и кровавыми
провонявшими рюкзаками с добычей.
Как и во всем, наверное, свете мы,
пилоты, пользовались в тех краях полным
добросердечием народным. В первом же
рейсе на Сорогу после посадки Иван
Максимович позвал: «Пошли молоко пить».
Под березой стоял бидончик - совсем
теплый, парное молоко в нем дыбилось
пеной. Он предназначался летчикам. Мы
попили и поставили на место - «вечером
придут, заберут». Полезно было такое для
молодого организма. Иван Максимович,
знавший на наших аэродромах буквально
всех, в урочное время «заказывал» клюкву,
бруснику, чернику, морошку, иргу, грузди,
рыжики, орехи - все это несли ему ведрами.
Перепадало и мне, главным образом от
супруги командира тети Ани в уже готовом
виде: в банках, которые молча протягивал
мне из портфеля в полете Максимыч, а я
должен был неукоснительно брать. Эх,
разве стал бы я солить и консервировать
в ту пору, обращать внимание на все эти
грибы-ягоды? В ту пору
я досуг проводил на танцплощадке в
поселке, или с гитарой на подоконнике в
общежитии, или с книжкой на диване, или с
Вашкой - первой моей женщиной, ласковым
солнышком...
А уж сколько всего перевозил
местному населению Иван Максимович! От
докторской колбасы до свидетельства о
браке (какому-то убогому пенсионеру). В
каждый рейс что-то непременно тащил он с
собой. Народ-то как радовался его
посылкам - одна старушка, приняв кулек,
аж бухнулась на колени. Впрочем,
летчики всю жизнь что-то кому-то
возят...
Осенью живая карта под нашими
стойками и расчалками становилась
огненно-бурой, а озера синими-синими -
тогда вообще очень красиво здесь было.
Часто одним с нами курсом летели журавли
и гуси, дивно мерцали их стаи над
простором земным, словно мириады
трепещущих блесток. Мы медленно
обгоняли эти живые треугольники, Иван
Максимович улыбался глазами. А весну мы
недолюбливали - за коварные сумасшедшие
ветра и болтанку. Иногда
качало так головокружительно, что
уматывало нас, пацанов, до дурноты. Хоть
и крутились в училище на центрифуге, но в
таких полетах даже мы иной раз зеленели,
не говоря уж о бледных полуживых
пассажирах. Потому-то башки у нас у всех
луженые, кто пришел в большую авиацию с
Ан-2. Весной в курилке у палаты общин друг
другу показывали настоящие мозоли на
ладонях от штурвала, так приходилось
таскать. Ваша даже приносила мне какой-то
самодельный бальзам, чтобы их мазать.
Этот ее бальзам по запаху очень
напоминал взвесь портвейна «777» и духов
«Только ты», но ничего...
А зимой мы летали на лыжах. Как
здорово приземляться на снег, особенно
на мягкий - совсем касания не чувствуешь!
Слепли в солнечные морозы от сплошной
белизны внизу, разве что с невесомым,
чуть различимым дымчатым полотном лесов.
Празднично переливаясь, полыхали льды
на реках и озерах - это была просто какая-то
симфония ликующего света. А поселки как
дымили трубами - до наших высот столбы!
Летишь в теплом свитере и жмуришься от
удовольствия. Самолет в такую погоду
стоит в воздухе, как влитой, не вздрогнет.
И небо рядышком голубое-преголубое,
гудящее от чистоты.
Мы-то к деревенским жителям, ко всей
этой труднодоступной экзотике
относились немного свысока, не без
иронии, как городские и как пилоты. И все
равно глушь, чудесное изобилие природы,
горизонты нетронутых далей были родной,
неотъемлемой средою нашей. Мы сами были
наполовину люди из народа. Иван
Максимович и вовсе смахивал скорее на
речного капитана, чем на летчика. Дома
часто ходил в тельняшке либо в «фуфайке»
и «штаниках» (спортивном костюме),
брился только перед тем, как летать, и
действительно знал по имени каждую
речушку на маршруте или даже малый
озёрок. Летишь с ним, бывало - у самой
кромки качающегося горизонта
нарисовалась стеклянная зелень: «Иван
Максимович, что это?» Всмотрится цепко,
кивнет согласно сам себе: «Лельма-ярва».
Посреди мохнатого бора изовьется
изумрудная змейка: «Иван Максимыч, а это?»
Опять кивок: «Ксайка». Украдкой глянешь
на карту на коленях, точно - «р.Ксайка».
Зуб у Максимыча блестит в
прокуренном рту золотой. Жесткие темные
усы у него, простецкая стрижка, глубокие
строгие глаза - карие-карие. Всегда
немного загорелый, скулы - как скалы. На
шоферских руках кое-где татуировка.
Резкие морщины, но почти нет седины,
несмотря на возраст под пятьдесят. Часто
сильно прикашливает в кулак. Роста
невысокого, но крепкий. Голос -
низковатый тенор. Ходит всегда
сосредоточенно, чуть вразвалку. При
первом знакомстве наверняка покажется
немного огорченным и абсолютно ко всему
равнодушным.
Совершенно спокойный человек. Очень
мало говорил и очень редко смеялся.
Абсолютно немыслимый и не мысливший
себя вне тех краев, в которых родился,
жил и летал.
«Иван Максимыч, никогда не хотели
повыше полетать, перебраться куда-нибудь?»
- как-то спросил его на Кеже за котлом ухи.
Он поглядел на меня с таким искренним
непониманием, словно я толковал о том,
чего и быть-то не может на свете.
Поморщился, похмурился, наконец
проговорил: «Курицу до одури есть там?»
Выхлебал из личной деревянной ложки
белоснежные куски щуки, подергал носом,
пожевал, добавил: «В той авиации скучно
летать. Ни земли там не видишь, ни неба,
ни себя, ничего не замечаешь... Никогда не
стремился туда».
Внешне он действительно казался ко
всему сущему равнодушным. Я был у него
двадцатым или тридцатым молодым вторым
пилотом, и мне всегда казалось, что если
завтра вместо меня на вылет придет кто-то
другой, Максимыч и не вспомнит обо мне, и
точно так же вначале проверит у
очередного юнца пилотаж, затем позволит
рулить, напоит молоком, расскажет, где
лучше брать бруснику, где морошку... Его
невозможно было удивить совершенно
никаким событием или фактом -
искусственная лукавая улыбка являлась
пределом наружного изумления. Я однажды
сфотографировал его на фоне самолета; он
смущенно, искренне благодарил, получив
фотокарточку, и... забыл ее в тот же день
на АДП вместе с газетой «Правда», в
которую завернул. Дары природы также
принимались им от местных с отрешенной
деловитостью, без всякого радостного
ажиотажа. И уху на Кеже, которую, я точно
знаю, он очень любил, Иван Максимович ел
сурово, насупленно, сопя, как усталый
артельщик. Выпившим я его видел всего
несколько раз - Максимыч багровел,
начинал часто икать и совсем углублялся
в себя, пока не засыпал.
Он был, я бы сказал, до
симметричности органичен биплану Ан-2.
На той самой фотокарточке они
замечательно вдвоем смотрелись. Эх,
милый наш самолетик! Ты напоминаешь то
ли усердную стрекозу,
то ли некого летающего пескаря -
благодаря своему вытянутому носу с
усиками винта. Идешь на вылет - вон они,
стоят стайкой наши «аннушки» на траве
вдоль асфальта рулежек носами вверх на
своих дутиках, кажут круглые перекаты
допотопных хвостов и стройную
мускулатуру крыльев. Смешные,
разноцветные - как их только не красили!
При сильном встречном ветре взлетит Ан-2
и вроде на месте стоит, никак не
устремиться ему вперед своими
перекладинами и проволоками. А так -
плывет себе по небу двухэтажный крестик,
бредет, словно мирный странник,
потарахтывает мотором, ворчит свое «р-р-р».
Удивительное создание; чудо авиации!
Вот и Иван Максимович... Глубоко,
конечно, провинциальный по складу и
естеству своему, говоривший «фанэра», «ложить»,
очень порядочным и содержательным
человеком на самом деле он был. Я по-юношески
активно уважал Максимыча за то, что он не
скрывал своего совпадения с родной
местностью - вообще он был самим собою до
мозга костей, не имел глуповатой спеси и
напыщенности, не болтал. До сих пор,
когда промелькнет при каких-нибудь
обстоятельствах слово «совесть», мне
сразу вспоминаются улыбающиеся глаза
Ивана Максимовича, глядящего на облака,
озера и журавлей...
Вот говорят - человек на своем месте.
Максимыч был пилот от Бога, и именно
пилот народной авиации, командир Ан-2! У
нас однажды на взлете из Ундогоры,
только оторвались, из-под капота мотора
брызнуло на окна масло (лопнул шланг на
штуцере), и мы не смогли видеть землю.
Иван Максимович мгновенно схватил
управление, прибрал обороты и сказал в
наушники (не крикнул): «Высунься, погляди».
Я высунулся до отказа в свою форточку и
заголосил, морщась от ветра и масляного
марева: «Левее! Еще! Еще! Всё, выпрямляйте!»
Иван Максимович посадил прямо перед
собой на остаток поля совершенно
вслепую - хоть бы тряхнуло, - и только
лишь остановились, пяти метров не доехав
до роскошной двухсотлетней сосны, он
вылез смотреть мотор под взглядами
десяти сжавшихся старух, бухгалтерши из
района, студента в стройотрядовской
куртке и трехъярусного петуха в корзине,
так и не издавшего никакого звука. Пока
ждали резервный самолет, вызванный по
радио с базы, Максимыч сидел в сторонке,
дымил и злобно поплевывал сквозь зубы,
явно переживая из-за прерванного полета,
бессилия что-либо сделать и стыда перед
публикой больше, чем из-за самого отказа.
Прибежавший аэродромный ундогорский
дед тем временем развлекал пассажиров,
словно массовик-затейник...
Если бы Максимыч был водителем
рейсового «Пазика» или, действительно,
капитаном речной баржи, не думаю, что
внешний образ его как-то разнился бы. И
все же это был летчик - ощупью, неким
высшим мужицким постиженьем
чувствовавший самолет, который
становился в его руках столь же
естественным и основательным, сколь сам
Иван Максимович. «Если сейчас мотор
откажет, куда будешь нырять на
вынужденную?» - спросит, бывало, не без
озорства (под полотнами крыльев
движется сплошной лес). Нужно немедленно
ответить: «Вон туда, на отмель!» - и
ткнуть пальцем в сторону сверкающей
речки. Кивок в ответ, - он вообще любил
кивать, как бы для большей убежденности
в своей или чужой правоте. Однажды
встретилась нам лютая, просто адова
гроза, никогда больше, даже в индийских
тропиках, такую не встречал - свинцово-жуткая,
с полыхающей чернотой во всю ширь,
вывалилась из-за горизонта, как бандит
на большой дороге, палящий сразу из
двенадцати ружей. Рейс был дальний, в
другую область, бензина назад до базы
без дозаправки нам не хватило бы, и ни
вправо, ни влево некуда было деться,
всюду сверкало - Иван Максимович,
недолго думая, указал перстом градусов
тридцать правее курса на большой
скошенный луг со стожками: «Давай сюда,
на стога не гляди, вались прямо на
середину, сажай, как обычно садишься». «Не
поломаемся?» - крикнул я, не в силах
сдерживать голос, тут же давая крен и
отворачивая к лугу. «Не должны». Сделали
пару кругов, пригляделись, затем
плюхнулись, коротко пробежали,
переваливаясь, как утка, один стожок
разрушили нижним полукрылом, только
встали - и тут по стеклам, по обшивке как
заколотит, как во все небо сверканет, как
шарахнет гром, и такая стена воды
обрушилась, что дышать в кабине стало
нечем, и ветер так
налетел, что по траве нас таскало с
зажатыми тормозами, думали - перевернет.
Если бы продолжили полет - конец
наступил бы и нам, и двенадцати селянам
сзади на лавке, и полугодовалому теленку,
что перепуганно мычал на полу и описался.
Вот тогда был редкий случай, чтобы Иван
Максимович продолжительно разговаривал
- навалившись локтями на штурвал, он с
наслаждением курил «Беломор» и с
восхищенной улыбкой непрерывно
комментировал подробности стихии,
словно футбольный матч. «Он вам жизнь
спас»,- сказал я, обернувшись в салон,
и показал на Ивана Максимовича, за что
сразу заработал острый тычок локтем...
Когда кончилась буря, вышли на улицу,
чтобы осмотреть площадку перед взлетом,
и сразу намочили ноги: воды по щиколотку.
Выяснилось, что луг неслабо спадает к
ручью, но метров двести на ровный разбег
имелось. Проходя мимо распушенного
стожка, я начал было ногой сдвигать сено
к разверстой куче,
но Иван Максимович на это поморщился: «Не
надо, придут - сами закопнуют, беда-то»...
Все-таки он полагал себя выше,
значительнее местных, иногда что-то
барственное все же сквозило в нем - хотя
сам деревенский, родом из Пилежа. Он тоже
заражен был вирусом пилотского
высокомерия...
Никто из начальства про эту нашу
вынужденную не узнал, и хорошо, потому
что если бы узнали - выгнали бы спасителя
Ивана Максимовича из авиации: по
тогдашним аэрофлотовским законам нужно
было идти на смерть, но не нарушать букву
инструкции, а мы-то формально нарушили...
Ко всем начальникам любого ранга
относился Иван Максимович с одинаковым
ледяным презрением, за исключением
командира нашего отряда Зайцева,
которого Иван Максимович почему-то
полагал «путевым» и всегда приветливо с
ним здоровался. Зайцев - высокий, худющий,
с серым впалым лицом, ужасный курильщик,
меланхолик в вечной летной куртке -
действительно производил неплохое
впечатление, хотя, как и все начальники,
всегда исполнял указанное свыше безо
всякой оглядки. Думаю, что «путевость»
Зайцева в глазах Максимыча заключалась
только в том, что Зайцев тоже был молчун.
При встрече с начальствующим лицом Иван
Максимович опускал глаза, начинал
лепетать путанно и бессвязно, словно
троечник, напрягался, как каменная глыба,
выражал всей осанкой крайнюю робость -
чем (мудрый хитрец!) с потрохами покупал
крупного чина, полагавшего, что «произвел
впечатление». Когда Максимыч общался с
замполитом (мне было строжайше
приказано Максимычем в общении с
замполитами без самой крайней нужды рта
вообще не открывать), без конца кивал и
соглашался даже с тем, с чем замполит и
не намекал соглашаться. На всех
собраниях и разборах - порой весьма
шумных, драматичных, с широким
диапазоном страстей - Максимыч всегда
одинаково скорбно молчал. Но начальство
знало истинную мудрость Максимыча,
ценило его молчаливость, поэтому
генералы обходили бывалого человека и
пилота стороной, не трогали. И рядовые
пилоты (народ вообще-то скабрезный,
энергичный и вспыльчивый) тоже всегда с
уважительной сдержанностью общались с
Максимычем, за глаза обозначали его «мужик
нормальный», разве что иногда между
собой с улыбкой толковали о нем как
немного об отшельнике и чудаке.
Не знаю, читал ли Максимыч книги;
бортовую документацию он всегда
заполнял и приказы на стенде читал,
только шевеля губами и сильно морщась. У
них с тетей Аней в типовой стенке за
неразличимыми от чистоты стеклами стоял
тогдашний «макулатурный набор» (с
отличной литературой!), но... Слишком
стерильными были эти стекла, слишком
нерушим ряд томов. А вообще к слову, как
все без исключения летчики, был Максимыч
необычайно восприимчив и внимателен.
Однажды я в разговоре произнес: «Ан-2 для
таких-то полетов не годится»,- а он вдруг
меня поправил: «Лучше говорить - не
подходит. Не годится - это ты обидно
сказал про такой чудесный самолет»...
Иван Максимович был убежденный
беспартийный, замполиту с фальшивым
пафосом отговаривался: «Не достоин».
Нужно было видеть лучезарное лукавство,
сардонический блеск глаз и котовый
вздерг усов Максимыча, когда он читал «Правду»,
по обыкновению шевеля губами... Когда я
поведал ему историю с сочинением на тему
«Ленин и авиация», Максимыч впервые
поглядел на меня как бы сверху, с
нацеленной сощуренной
сосредоточенностью - но ничего не сказал...
Те же глаза и усы имели место, когда
речь заходила о женщинах. Ваша,
трогательно прикрывая свою розовую
грудь краешком одеяла и обнимая горячей
левой ногой после таких по первости
трудных, но, безусловно, прекрасных
минут любви, ласково шептала в ушко,
будто мама сыночку: «С командиром-то
тебе как повезло. Иван Максимович - душа».
Бабы уважали его больше, чем любили, ибо
романы на стороне Иван Максимович не
заводил - хотя мог бы, да еще как...
Однажды велели нам срочно вести
ветеринара в один местный образцовый
совхоз, где заболела некая важная корова,
состоявшая на особом номенклатурном
учете. Неохотно полетели в осенний мрак,
болтаясь на ста метрах под самой
моросящей кромкой, в тоскливых разводах,
над бурой, мокрой землей, помутневшими
озерами. Прилетаем, едем, взрывая лужи,
по грунту, как трактор, подруливаем к
самой ферме - она там прямо у поля, по
обыкновению вся облупленная, с
половиной целых окон... Навстречу встают
с лавки три пьянющие доярки - в промокших
насквозь замызганных халатах и мужицких
сапогах, вымазанных рыжей глиной. Волосы
липнут к пунцовым щекам; тяжелые, отнюдь
не женские клешни с грязными ногтями
цепко держат по стакану. На лавке
наломанный хлеб,
валяются гнутые огурцы, снятые тут же с
грядки. Из травы бутылка водки
выглядывает - небось, поставили туда, «чтоб
никто не увидел».
Первым вышел я. Девоньки (лет сорока)
туманно уставились, одна мечтательно
произнесла: «Какой румяный»... Вторым
выбрался ветеринар - полный сердитый
мужчина, одетый по-городскому. «Здра-а-ассте,
Егорыч,- путано, с пьяной радостью запели
доярки. - Давай-ка, пропусти маленько, а
то в кои-то века осчаст... осчастливил нас
своим наличием». Ветеринара весь полет
рвало в целлофановый мешок, он только
злобно махнул на них и сразу пошел со
своим чемоданчиком к коровнику, не
замечая луж и брызгая ногами.
Вышел Иван Максимович. Самая могучая,
кряжистая и пьяная из доярок раскинула
руки, как дуб ветви, застолбенела и
восторженно скривилась: « Эх, Ваня, Ва-а-аня...
Сладкий ты мой перец... Вот кого полюблю-то
неуемно и зрело... Вот хто мущина со
стажем... Иди ко мне, медвежонок мой
крепкий...» После такого комплимента она,
расположив громадные подушки грудей на
летной куртке Ивана Максимовича, объяла
его всею плотью, нацелилась трубочкою
рта в командирское ухо, звучно цедяще
облобызала и, раскрыв пасть
- влажную и красную, как у рептилии,
радостно выдохнула. От этого всего Иван
Максимович в момент словно завянул и с
вежливой настойчивостью отодрал от себя
конечности этой Брунгильды одну за
другой. «Не хочешь? Брэзгуешь?» -
трагично прошептала мадам,
перетоптавшись сапогами по чавкающей
грязи. Подруги ее (действительно,
вылитые безумные богини из какого-то
сурового эпоса) воспаленно улыбались, в
чрезмерном умилении утирали шмыгавшие
носы. Кругом тоже все хлюпало, слезилось.
Откуда-то незаметно, как котенок,
подошел мальчик лет десяти в резиновых
сапожках на босу ногу и в ветхой
курточке, по-деревенски чумазый, с
сопелькой. Он испуганно глядел на нас, на
близко стоявший самолет, неожиданно
откуда-то прилетевший. Одна из доярок
взяла ребенка на руки, прижала к себе,
что-то нежно и смущенно прошептала ему,
явно стесняясь себя. Почитательница
Ивана Максимовича изо всех сил
выругалась матом и заорала: «Ванька, ты
меня будешь сегодня любить или нет?!!»
Иван Максимович сурово кивнул мне на
самолет, быстро поднялся в кабину,
бормоча в неудовольствии: «Тьфу, итит-твою-мать,
хотел здесь творожку взять, да какое уж...»
Захлопал винт, бабы на улице запрыгали,
замахали, мальчонка наконец тоже стал
глядеть с радостным любопытством, и Иван
Максимович, не дав мне управление,
сцепил зубы и прямо с места понесся в
разбег, резко оторвал машину с трех
точек, бросил ее вместе с орущим, как
ворона, мотором в какие-то
аэродинамические крайности.
Развернулись над фермами, ушли в
облачность, и внизу, в дожде и осенней
стылости скрылись доярки, коровы, лужи,
глина, ветеринар и тот мальчонка...
Мы, пилоты, можем вот так вырываться
из печальных земных юдолей. А кто-то
остается далеко позади и внизу один на
один с отверженностью и тоской...
Вот тогда-то, в тех лохматых
дождливых сумерках я впервые задумался:
«Неужели вот так и буду всю жизнь летать
и жить здесь?..»
И отстраненность Максимыча вдруг
стала понятней: все мы, птенцы его,
вторые пилоты, рано или поздно его
покидали, переводились, уезжали, клялись
за прощальной бутылкой в вечной дружбе и
памяти, а сами по молодости тут же
забывали своего первого командира, ни
письмом, ни звонком, ни открыткой не
тешили его - да он ничего от нас и не ждал,
конечно.
Он
жив,
наверное,
сейчас?..
«Aeroflot
268, is there turbulence?»
«Gust there is not turbulence, 268».
«O’key,
o’key...»*)
Ну и ладно.
...Все чаще на эстафетах мне снится,
что проснулся в той своей комнатке в
портовском общежитии. Открою глаза -
вокруг меня четырехзвездочные
апартаменты на Островах Зеленого Мыса
или в окрестностях Сан-Франциско, а я
удручен: черт побери, ведь только что, ну
буквально секунду назад был в той
комнатке...
Как я тогда жил, юный пилот, вдали от
дома, от матери, еще не женившись? Да как-то
само собой все происходило. Легко,
невесомо живется в юности! Многое
пролетает мимо незаметно, еще не томя, не
раня, не вызывая досады. Совсем еще не
нужен покой; чуть ли не пороком
представляется комфорт. Подвижностью и
беспокойством превышаются огорчения.
Сама Всевышняя Сила помощник юному
человеку в его беззаботности. Ест он Бог
знает как, одевается Бог знает как,
обустраивается Бог знает как - лишь бы
светла была душа, лишь бы все
происходило на лету, романтически!
Хорошо все это было.
Утром, если не лететь, поваляюсь,
понежусь, потом вскачу, достану из-за
форточки кулек с докторской колбасой,
приобретенной с церемониями у второго
пилота Ту-134-го. Бросил пару кусков в рот,
зажевал хлебцем, сходил в ветхих тапках
на кухню - чайку вскипятил, с себе
подобными словцом перебросился. За
окнами близко-близко шевелятся еловые
лапы, в фортке бурчит аэродром, иногда от
мощного гула взлетающего «туполя» мелко
зудят стекла. Приятель забежит
перехватить чего-нибудь съестного (в
магазинах было, как и везде в Союзе,
пусто), а больше просто поболтать.
Возьмешь у соседа Андрюшки гитару,
побродишь пальцами по струнам, туманно
воздев влюбленные в кого-нибудь глаза...
Сходишь в книжный или за хлебом, за
молоком, непременно набросив летную
куртку и солидно приосанясь, подышишь
свежим воздухом. С улыбочкой, бредя по
асфальтовой геометрии поселка,
пережмешь руки встречным. Обедали в кафе
порта, лишь иногда забежит Вашка и
сварит мне «из пакета» пустопорожний
суп; она его звала «трататуй». Душ - на
этаже в общаге. Иногда позовет Максимыч
помочь в гараже или в «сарайке», и тетя
Аня никогда не отпустит без банки
варенья или куска рыбного пирога...
Вот вижу все, как сейчас. Произойди
чудо - и вернусь, войду в ту свою комнатку
с раскладным диваном, шторой, шифоньером,
табуреткой, тумбочкой, полупустым
кондовым чемоданом, лампой с бумажным
абажуром, вырезанным Вашей, - так, как
будто и не было никаких лет после.
Вечером, кому завтра не лететь,
бегают в порт за пивом или несуетно
тянутся в клуб на дискотеку. В «медленном»
серьезно обнимаются там под Антонова
или Маккартни с провинциальными
девушками, одновременно и стыдливыми, и
доступными. А в «быстром» трясут туда-сюда
кулаками, скачут и строят рожи, как
обезьяны, рот до ушей. Гремит-сверкает
убогая цветомузыка, юное племя в
возбуждении необычайном гормональные
излишества расточает без счета. У девиц
туда-сюда все под футболками
подпрыгивает - эх, потряс! Каждую так и
съел бы без соуса...
Иногда вечером вдруг раздается
мелкий заговорщицкий стук в дверь -
приходит Ваша... От одного этого звука,
порожденного нежными проворными
пальчиками, все во мне воспламенялось. «Ну,
как ты тут живешь?» - всегда один и тот же
томный вопрос. Кругленькая, ресницы
солнышком, лучистая, говорит, как
девчонка - тоненько; лукавая, развратная.
Вначале недолгий обоюдо-учтивый
разговор за рюмочкой - с длинными
взглядами, тихими, вкрадчивыми,
сглатывающими от вожделения голосами,
какими часто говорят люди перед блудом.
Ваша в аэрофлотовской синей юбке и
рубашке с погонами, аккуратная, словно
котенок, сидит на краю дивана, одной
рукой держит рюмку, а другую чинно
располагает на голой коленке. Когда,
дрожа, присядешь рядом и обнимешь за
плечи, озорно отбивается, как школьница
на переменке, и этим еще больше сбивает
на себе одежду, распахивается...
О, Ваша, Ваша! О, щедрая твоя
женственность, ласковое бесстыдство и
веселье! Милая моя, чудесная распутница
Вашенька, клянусь - не было больше и не
будет больше никого на свете лучше тебя!
Вашка добрая, не взбалмошная,
смешливая - что может быть лучше в
женщине? Она совсем не журнальная
красавица, лицо - матрешка, довольно
низенькая, коротенькая, хотя и вполне
стройная. Ей лет на тринадцать больше,
чем мне. Дочка ее ходила тогда в пятый
класс, муж с Вашей развелся - понятно,
почему...
В минутки любви она, бывало, громко
учащенно вздыхает, запрокидывает лицо и
глядит вверх так, словно сильно чему-то
удивлена...
Я быстро позабыл ее, уехав - как и все
остальные, наверное, вашины избранники,
но после вспоминал все чаще, и ни от кого
из женщин больше не получал такой
нежности. Однажды, когда начал летать в
Шереметьево, первый раз прилетел в Париж
и послал ей на аэропорт открытку из
Шарль де Голля с изображением эйфелевой
башни, но ответа не пришло...
Ей-Богу, съезжу туда. Вот возьму и
съезжу.
Встретил недавно парня родом из тех
краев, к нам приезжал переучиваться на А-310
в Шереметьево. Обыденным голосом
поведал он, как о само собой
разумеющемся, даже немного со смехом,
что всё там, где я начинал, развалилось,
всех повыгоняли, Ту-134-е стоят на приколе
(«зимой их по движки заметает»), три
рейса в неделю только делают на Ан-2 в
Ундогору, Пилеж и Сорогу и поднимают,
когда надо, вертолет санавиации в район
или местное начальство отвезти на охоту
(«главных сволочей» - подумал я). По полю
и портовской площади собаки бегают
дикими стаями, палата лордов сгорела
вместе с палатой общин, вокзал наглухо
заперт, списанные «аннушки»
растаскивают на бытовки. Да уж и лес-то
почти весь в округе, говорит, повырубили.
О Максимыче и Ваше, сказал, ничего не
знает...
И стало так мне обидно, так жалостно
от этого рассказа, так я загрустил, будто
потерял кого-то из близких и жизнь
теперь уж не будет никогда полна... Как
жалко, ах, как жалко - и людей, и самолеты,
и природу, и прошлое. Жалко добрых,
нормальных очагов жизни, жестоко
отверженных и утерянных, похоже,
безвозвратно.
Вот некоторые полагают, что нужно
жить настоящим и будущим, а прошлое,
дескать, тщета и призрак, и нечего думать
о том, что позади. А мне кажется, что нет
ничего милее душе и надежнее, чем добрые
воспоминания. В минуты их даже злой
человек на глазах делается лучше, не
говоря уж о натурах озаренных и
впечатлительных. Вообще все люди от
такого становятся добрее. Мало что на
свете способно пробуждать столь чистые
благие чувства, сколь воспоминания о
былых днях светлых, тем более о днях
юности.
Любимый мой рейс был на Кежу.
Туда летали с эстафетой (с ночевкой).
Это было сделано специально. Река Кежа,
именем которой назван поселок
переработчиков леса, в который мы летали,
отличалась даже в этих непуганых местах
отменной рыбалкой. Особенно старицы ее и
рукава, таинственно блестевшие во
хвойных чащах. На старицах ловили
крупного судака, который приходил из
больших озер и гонялся в теплой воде за
мелочью; а в рукавах, в густой прибрежной
траве, водилась самая вкусная для меня
рыба на земном шаре - линь. Ну уж не
говоря о щуках, мутно-зеленых с
ярчайшими плавниками, словно приплывших
из тропических вод - этого добра там
гуляло просто несчетно.
Поэтому эстафета на Кеже была
недаром заложена в расписание: большие
чины «с управления» иногда летали туда
на рыбалку. Ночью они ели уху и
напивались до полного безобразия, а
утром, проспавшись в аэродромной избе, в
глубоком похмелье и моральной
тягостности улетали домой.
Когда они приходили к рейсу, нас с
Максимычем предупреждали заранее, и мы
были ко всему готовы. Но, в счастью,
случалось это редко, так что в обычных
полетах на Кежу мы принадлежали сами
себе.
Под сводами типового дома
аэровокзала отрешенно плыл казенный
вашин голос, столь известный мне при
совсем иных обстоятельствах: «У стойки
номер один начинается регистрация и
посадка на рейс местной авиалинии номер
15 Большая Середница-Ундогора-Кежа». И
тотчас же вскакивали с лавок пассажиры
во всем брезентовом и резиновом.
Июнь, ветрено, первая летняя дневная
белесость, все кругом свежо и ярко-зелено.
Облака, похожие на белые пузатые мешки,
устремленно бегут и то закрывают, то
открывают солнце, рождая броскую
графику теней. Трава по-аэродромному
ходит беспокойными волнами, иногда
вздымается шевелящейся
гривой. Надуты полосатые конусы,
развернуты флюгера. Тени от облаков
властно движутся по рулежкам и белым
самолетным хвостам, а когда
показывается солнце и золотеет свет, все
это становится необычайно нарядным.
Я иду лететь на Кежу! Засучиваю рукав
и протягиваю руку фельдшерице Раисе, у
которой муж пьяница и которая с собачьей
чуткостью выявляет малейшее
присутствие в мужском организме
алкоголя. Да нет, все в порядке - трезв и
здоров, как бычок. С показной
насупленностью изучаем с Максимычем
приказы и регламенты, «берем погоду» («с
Ундогоры звонил дед Вася, говорит -
облака есть, но дождя не будет»),
забегаем в СОП и на АДП, получаем задание,
карты. До сих пор очень люблю в нашей
работе всю эту суету. Наконец - на
самолет.
Вон, стоит на попе наша «ласточка» с
торчащими, как у пескарика, усами винта,
глазастая, коренастая и крупненькая, как
поросенок, но с изящными альбатросовыми
крыльями. Экое существо! Проволоки да
перекладины... Дутик так утонул в траве,
что всегда кажется, будто нам из нее и на
полном газу не выбраться. В тени от
самолета всем телом развалился на
мураве техник, ладони под затылком,
взгляд в небесах, клевер торчит изо рта.
Фамильярно машет нам, не привстав.
В салоне... впрочем, назвать это
салоном трудно - пропахшее бензином и
прочей нехорошей вонью прямоугольное
вместилище с четырьмя кружочками
оконцев, с устремленными вверх лавками
вдоль бортов и привязными веревками,
трубами по потолку, нескладное, мрачное.
Где еще на свете мирных людей возят по
небу вот так - боком и на лавках, а не в
креслах?
(Была у нас, правда, одна машина «А-эН-2»
с широкими старомодными креслами,
обтянутыми какими-то белыми полотенцами,
но на ней возили только работников
райкома и исполкома).
Подъезжает «уазик», привозит мешок с
почтой. Расписываемся. Зудит, сизо коптя,
бензовоз, мрачный, засаленный, как все
бензовозы; тянут с него шланг -
расписываемся. Наконец, появляется
гуськом бредущая команда с чемоданами и
корзинами, у бабуси с собой на веревке
какая-то животина - кажется, козел. «Ведут»,-
вздыхает авиатехник, выплевывает клевер,
срывает другой и, кряхтя, церемонно
стряхивая с себя травинки, подымается с
земли. Дежурная с пепельным лицом, вся
худая и даже издали кажущаяся злой,
Людка по кличке Броня («никогда никому
не дала; вообще никому!» - поражался
Максимыч), сует, глядя мимо, ведомость: «Двенадцать».
Как у Блока. «Плюс козел»,- пытаюсь
шутить я и ставлю автограф с осанкой
министра гражданского флота. Людка
вырывает документ из рук, с презрением
тевтонского рыцаря глядит на залезающих
в самолет славян и всею своею острой,
плотоядной худобой изъявляет миру, что
шуток не понимает. Бывают такие
неприятные несчастные люди, как Людка.
Козла загоняют умелыми пинками - он
симпатичный, улыбчивый, нежно-белый с
розовым. Бабушка крестится, кое-как
влезает.
Подлетает другой «уазик», и человек
с серыми думающими глазами протягивает
нам спецпочту. Опять расписываемся...
Облака то укрывают тенью, то
отбегают, и тогда сразу делается
радостно и солнечно. Когда посильней
подует ветер, на самолете что-то гулко
вздрагивает или звякает, потренькивают
расчалки, словно провода. Иван
Максимович важно спрашивает внутри: «В
Середницах кто выходит?» Иногда в этом
рейсе делали посадку в Больших
Середницах, если были туда пассажиры,
чаще всего бабушки после пребывания в
областной больнице. Но это редко - село
считалось «неперспективным», а потому
пустело и умирало на глазах, жило почти
на одном подножном корме, нередко света
в нем неделями не было. Даже сверху
казалось оно насквозь проросшим, словно
заброшенное кладбище. А раньше,
рассказывал Максимыч, прилетишь туда - и
детвора всей ватагой из школы несется к
самолету: «Дядя, покатай! Ну пожалуйста!»
Это еще когда он после училища на «небесном
тихоходе» - на По-2 летал, в унтах и
пилотском шлеме, как в старину - я у них с
тетей Аней дома на стене фотографию
видел в рамочке: По-2 стоит и рядом
молодой Максимыч.
...Ну что, все расселись по лавкам?
Складно, как семья, ладошки на коленях.
Глядят мне в глаза - кто с тревогой, кто с
любопытством. Я на это время им Бог. Люди
живые. Улыбаюсь до ушей, пижон в
новехонькой сиреневой рубахе с погонами,
всем довольный мальчик...
«Aeroflot
268, Shanwick Oceanic Control, maintain flight level 360, proceed via
Bravo Romeo».
«Shanwick Oceanic Control, Aeroflot 268, proceeding via BR,
maintaining level...»*)
Далеко
еще до Америки. Вспоминается...
Мне нравилось работать.
Вот мы с Максимычем в кабине, ноги на
педалях. Верхние пуговицы рубах
расстегнуты, рукава засучены. В фортки
снаружи приятно дует. Техник глядит на
нас в упор, скрестив руки на груди, весь
как-то хитро откинулся назад, стоя, и все
жует клевер. Включаем, нажимаем, вертим
головами в наушниках; напружиненные,
энергичные. Максимыч кричит вниз
пассажирам: «Все привязались?» Оттуда
робко, вразнобой, как школьники перед
контрольной: «Все-е-е...» Максимыч
энергично кивает, еще пару раз повсюду
взглядывает, проверочно тычет пальцем
туда-сюда, глядя с заботой, тревогой и
радостью, и наконец говорит: «Давай,
проси». Я запрашиваю запуск довольной
петушиной скороговоркой. Первый выхлоп,
мах винта!
И вот уже все дышит, жужжит, бубнит,
гремит - и трясется. Трясется все - руки,
локти, коленки, стрелки, колпачки,
надписи, нехитрые компаса, активно
болтаются черные панели - и лишь винт
впереди шумит обильно и воздушно, гудит
ровно и надежно мотор, обдавая густыми
децибелами до самого нутра.
Штурвал пару раз погоняли туда-сюда,
подвигали педали, пробормотали «молитву»*)
- с Богом, поехали! Мотор колотит чаще,
страгиваемся - и закачало, запрыгало,
потащило, запшикали тормоза - все это
сосредоточено в напрягшихся наших руках,
глаза зорк-зорк по сторонам, подбородок
вверх - глядим в оба. На деревенских
кочках в этом дрожащем гуде, бывало, еще
ярче самоосознаешь, в каких пребываешь
крайностях. Трактористы мы были на Ан-2,
трактористы, а не летчики!
Взлетали с рулежки. Гул мотора
нервно переходит в грохочущий рев, мягко
побежали по плитам, легонько коротко
отдали - подняли корму, отделился дутик,
и сразу плавно на себя. Незаметно-незаметно
поднимается двукрылая ласточка,
потихоньку - глядь, уже не вровень, а
внизу изящные хвосты «туполевых», домик
вокзала, пожарка, пятиэтажки поселка,
ковром разворачивается ближний лес - и
все уже миниатюрное, и плавно поплыла
земля, закачались над ней крылышки -
летим! - и в руках наших уже не гремучий
склеп, а живой летательный аппарат, мы с
ним в воздухе, устремленные - этому
моменту радовались и всегда радоваться
будут люди.
Забираемся на свои двести метров.
Приблизившиеся облака здесь кучнее,
значительнее; от солнца резче в кабине
тени. Взяли курс на Середницы. Идет мне
навстречу суровое черно-зеленое полотно
с серебряными проблесками озер,
гуляющими вершинами леса, и отрешенной
туманной мглою, прямою грудой облаков
вершит горизонт всю эту бескрайность.
Беспокойный, как подросток, летит Ан-2 -
верткий, игрушечно послушный в упругом
встречном потоке, словно на резинке
подвешенный - подпрыгивает,
подскакивает, ни одной воздушной кочки
не пропустит, а вдруг как захватит его
вниз - тяни! Максимыч покуривает и глядит
далеко за фонарь, пока я кручу - это у
него я перенял привычку в полетах всегда
посматривать на землю.
Хотя с таких-то высот, как сейчас, что
на нее смотреть? Десять с половиной
километров - это ведь совсем далеко от
земли. Вот летим
над Атлантикой - ну и где она, эта
Атлантика? Нету никакой Атлантики - одна
равнодушная серая муть внизу размером с
бесконечность...
Все
чаще хочется полетать низенько, к земле
поближе! Раньше не понимал,
высокомерничал, а теперь очень понимаю
любителей, которые на всяких субтильных
аппаратах, любой ценой, правдами и
неправдами прыгают в небо - и, оказавшись
там на своих воздушных автомобильчиках,
сколько угодно рассматривают землю
вблизи. Счастливцы! Когда летали мы с
Максимычем, уже тогда казалась мне
образом высшего совершенства, неким
чистейшим абсолютом, совершеннейшим
дивом Земля с высоты двухсот метров. Все
дурное на ней, привнесенное человеком,
сверху либо незаметно, либо выглядит так,
что все равно намечается хоть какая-то
форма. В основном же - стерильная красота;
абсолютно особенная красота.
Доступность - близко же она совсем, земля,
почти что по ней едем - и недоступность,
отстраненность - все же мы летим, мы над
миром, в горних, сверху глядим.
Трогательная законченность и острота
геометрии Земли, чистая яркость ее
цветов, чертежная резкость контуров -
только в низком полете до конца ощутишь
совершенство и полноту мироздания,
поймешь, что мир - Божий... Через полет не
небо - землю познаешь и полюбишь.
Счастливы птицы!
Ах, как хочется полетать низенько, с
зеленых площадок! До чего же хорошо
опускаться на живую траву, на одуванчики...
А уж там где мы летали с Максимычем -
сколько всего интересного внизу было.
Летишь на Кежу - сперва до Середниц
тянется сумрачный лес с частыми унылыми
вырубками и просеками, все в нем - и речки,
и озерки, и поляны - прячется. Сплошной
идет темный слой с вечной сиреневой
дымкой поверху. В Середницах крыши изб
цветом заодно с вершинами корявого
осинника, против солнца не всегда их
сразу и разглядишь - как чернушки
прячутся в косматых травах. А дальше, на
Ундогору, вовсе чудеса пошли: широкие, с
ясной водой озера, над ними гусиные стаи,
лес - радужный сосняк, лишь порой
фиолетовыми пятнами идут густые урочища
- совершенно плотные, как твердь,
дремучие чащи - сколько раз видали там
меж стволов разбегавшихся лосей. «Здесь
и медведей много»,- совал вниз палец
Максимыч. В двух покинутых людьми
деревнях на ундогорском маршруте стояли
деревянные церкви - потом одна из них
сгорела во время лесного пожара. Это был
наш навигационный ориентир, мы их так и
звали - первая церковь, вторая церковь.
Максимыч рассказывал, что строили их еще
старообрядцы, что это бывшие скиты. «Здесь
давно не живут, переселились в Ундогору».
Обвитые разросшимся кустарником, словно
украшением, печально и тягостно глядели
они вверх крестами, словно скорбные
фигуры. Максимыч иногда крестил там лоб,
отвернувшись... Однажды, когда пролетали
над второй церковью, он показал мне на
курчавое скопление зарослей за
провалившимися избами и рассказал: «Там
бьют потайные ключи». Я (пацаном, да и
сейчас, вообще, впечатлительный)
разволновался от этих слов; представил
себе давно брошенное жилье, проросшее
кладбище с высохшими могилами, ветхую
церковь и тут же, в таинственной тени,
энергично и живо бьющие, как ни в чем не
бывало, ключи, журчащие громко и сильно,
не ведающие никаких перемен и
обстоятельств - работающие вечно, как
само время. Наверняка в них
необыкновенная вода, от которой моложе и
добрее делается человек - из сказок вода.
А ночью каково там, у этой церкви, у этих
ключей?... Интересно, что сейчас там? Люди-то
теперь везде и всюду доберутся, маловато
дикого места остается на Земле, до всего
на ней достигнут доступ - не знаю, хорошо
ли это...
Вот в каких краях летали мы с Иваном
Максимовичем! Воздушную дорогу на Кежу
как сейчас вижу перед собой: тянется она
мне навстречу за мутным кругом винта под
дробный гром мотора, неторопливо плывет
под беспокойные крылья. Вот впереди
Ундогора показалась - ряды разноцветных
улиц строятся на высоком холме вдоль
берега округлого, солидного и всегда
светло-синего озера, окаймленного по
всей окружности лесом. В Ундогоре все
тоже солидно - райцентр: и дорога есть, и
машины ездят, на крышах домов высятся
мосластые телеантенны, и даже
стеклянный универмаг имеется. На самой
вершине холма («горы») белая чудесная
каменная церковка стоит с пятью
куполами - кладбищенская, действующая. А
жилые избы в Ундогоре широкие,
приземистые, ладные, с улыбчивыми
оконцами, большими террасами и
пристройками, из-за чего напоминают они
довольных дородных баб, уперших руки в
боки. Все это с высоты пятьдесят метров
напоминает слободку из некоего сказа. Мы
там, бывало, сперва с величавым креном на
предельно малой скорости пройдем вдоль
всей Ундогоры, а потом скользим над
огородами с нежно-живописными грядками
картошки на свою поляну, едва не
наподдавая колесами по крышам сараев и
дымящих банек, опускаемся, как парашютик.
Там всегда дед Вася встречает в своей
неизменной фуражке стародавнего
авиационного образца - выдающийся
метеоролог-самородок двадцатого
столетия. Он всегда однозначно точно
давал прогноз погоды, ни разу, говорили
про него, не ошибся, однако мы так и не
смогли ему объяснить, для чего нужен
барометр.
Ундогора тоже при лесах стоит,
кругом там леса, аэродром - огромная
лесная поляна. Летом выйдешь из самолета
- пахнет вереском, нагретой хвоей,
черничником, сырыми грибницами. Бывало,
комары поедом съедят, да еще и полный
самолет их привезешь, весь
исцарапаешься дорогой. Так и живешь, и
летаешь - заодно с природой...
Казалось, вечно буду летать я там,
навсегда сроднившись и стерпевшись со
всем. В юности легко все кажется, все еще
далеко; быстро отвлекаешься от всякой
грустной думы. В юности не печалятся
подолгу... Совсем я не размышлял тогда о
том, что со мной будет: летал, да и все.
Жил себе, как ветерок весенний. И сейчас
бы, наверное, пребывал в том краю, однако
у матушки моей обнаружился троюродный
брат, занимавший непомерный потолок в «Аэрофлоте».
И вот однажды в тот памятный мартовский
день - когда я, прилетев, кстати, с
Ундогоры, шел к АДП, хлюпая по талым
лужам, жмурясь и веселясь от изобилия
солнца и снега - и встретился мне на
дорожке торопливо шагавший Зайцев,
который, чуть заметно волнуясь и краснея
отдельными пятнами, бросил на ходу: «Тебя
переводят. Зайди в кадры». Мне тогда
многие позавидовали...
«Shanwick,
Aeroflot
268, Bravo
Romeo
position,
360».
«
Aeroflot 268, maintain level 360, report Alpha Bravo».
« Maintaining 360, will report...»*)
-Что
мы
будем
кушать?
М-м?
Бригадирша бортпроводников зашла в
кабину. Глаза - две наглые скользкие
вишни, вся широкая, сбитая, лаковая,
остроногая, полураспахнутая. Говорят -
любовница самого генерального. С
комэском перед рейсом стояли, курили, он
напутствовал строго: «Ты там
побдительнее с этой особью...» Да ну! - вся
химическая, аж лоснится. Сразу видно -
злая. То ли дело Вашенька была...
-
Ну, у командира я не спрашиваю: командир
у нас ест только рыбу...
Ваша последнее время в дверь мою
стучалась все реже. Один второй пилот Ту-134-го
привез ей некие необычайно пахучие духи,
ну и... стала она мне не Ваша, а Ненаша.
Максимыч по этому поводу посоветовал
следующее: «Положи ей в бюстгальтер...
или еще куда-нибудь... трешку! И скажи с
выражением: это ваша цена, Виолетта!». К
сему наставлению добавил: «Отгадай
авиационную загадку. Что значит - если
леди выйдет из самолета, то двигателю
будет легче развивать скорость? Не
знаешь. Баба с возу - кобыле легче...»
А рыбу - да...
От выцветшего дощатого домика с
надписью «СЕВ-ЗАП.Уп.ГА. АЭРОПОРТ УНДОЛ-ГОРА»
(она вообще-то Ундол-Гора; Ундогора - это
по грешной нашей привычке все в
топонимах сокращать) дед Вася сердито
подгонял к самолету выбежавших покурить
мужиков, те спешно тушили и с улыбками
бежали в самолет, озорно морщась от
воздушного потока винта и выхлопа,
радуясь, что рейс их скоро закончится.
Иногда приходил один и тот же тощий
милиционер до Кежи с планшетом на ремне,
сурово жал дяде Васе руку и неторопливо
залезал. Мы его располагали на веревке,
пристегнутой поперек кабинного проема -
в салоне мест никогда не было.
Милиционер снимал фуражку и сжимал ее
между колен, хватался за наши
подлокотники и тоскливо замирал - боялся,
видать, лететь, всю дорогу устремленно
глядел, сжавшись, поверх доски. Дед Вася
махал рукой в ту сторону, откуда дул
ветер, и мы прямо с места бежали,
помаленьку отрывались и зависали над
густой синевой озера, черточками лодок и
пятнами мелей. Один рыбак с
фотоаппаратом «Смена» в Кежу летел и
хотел то озеро сверху снять («я, говорит,
каждую мель буду знать, всех обловлю»),
но Иван Максимович недовольно запретил:
«С самолета фотографировать запрещёно!»
Он и мне не разрешал: «Ну для чего тебе?
Не положено это, не надо. Еще узнают...» Эх,
какие вещи ушли... Жалко очень.
Уж там-то было, что снимать. Перед
Кежей малость левее курса появлялся
заброшенный сталинский концлагерь. Вот
грядет он, мертвый призрак. Над болотным
осинником, из сплошной ржавой поросли
остро высовывались деревянные вышки...
Максимыч каждый раз зло кивал головой,
сплевывал и всматривался вниз до тех пор,
пока эту жуть не затягивало под крылья.
Потом некоторое время глядел тяжко
перед собой, резко поворачивался ко мне
и выкликал с нехорошей улыбкой: «Не
приведи Бог!» Кто-то у него, говорят,
пострадал...
А дальше мы с ним часто задирали
головы, стремясь поскорее разглядеть
вылезавшую из-за горизонта оранжевую
излучину Кежи.
Вот и она! К закату темнеет лесная
щетина, и видна за ней, горит под солнцем
загогулина реки, курится палочка трубы
лесозавода, криво вертится желтая
дорога, соединяющая между собой лысины
вырубок, по которым разбросаны, словно
замершие тараканы, трелевочные трактора.
А вот железка - она там километрах в
десяти от поселка, леспромхозовская
ветка. Ходил тогда по ней еще паровичок.
Бывало - летишь, а он тащит над собой свою
ватку, едва заметный в просеке среди
лесной густоты. Мы ему крыльями
помашем, а он нам снизу пыхнет
султанчиком - свистнет, только мы не
слышим. Вот среди сосенок наметились
ряды темных двухэтажных бараков вдоль
песчаных улиц, видать белье на веревках,
перевернутые лодки в пространных дворах,
играющих детей. Главная, тоже песчаная
улица с уродом-Лениным против
единственного кирпичного здания
поссовета - стальным, полуржавым,
озлобленным, со сдавленной кепкой в
левой руке и заведенной назад правой,
будто собирался местный Ленин дать кому-то
по морде. Над Лениным беру круто влево
почти без скорости, валясь в глубокий
крен - и выпархиваем на свою поляну к
размеченной щитами полосе, прямоугольно
лежащей вдоль опушки леса и речной дуги.
Вот под кабиной мчатся кежские травы,
прыжок, прыжок - и утихли, опустились на
дутик, приехали. Народ вылезает прямо
где встали, молча кивает на прощанье
бледный милиционер, а мы скоренько рулим
к серой избе с мутной надписью КЕЖА и
давно облезшим рекламным щитом «Аэрофлота»,
на котором проглядывался профиль Ту-104.
Стоит изба на самом берегу, идет из
тоненькой трубы ее дымок, а рядом ярко
пылает костер. Долговязый человек стоит
у избы в рыбацком и в кепке, приветливо
машет навстречу нам над головой, рот до
ушей - это Тимофеич. Здешний начальник
порта. Когда последний раз фыркает мотор
и торчком замирает винт, он волочит к
самолету длинную лодочную цепь и с
треском обматывает ею стойку шасси.
Зачем? Кто его знает... Мы благодушно
докладываем диспетчеру «борт такой-то в
Кеже, конец связи», все выключаем, я
быстренько пишу на коленке во всех
графах, Иван Максимович довольно курит в
форточку, держа «беломорину» нарочито
по-дамски. Снаружи, заглушая дух
самолета, веет сильным запахом свежей
травы, хвои, речного ила. «Все, закрываем»,-
наконец велит командир.
Потягиваясь, не спеша выходим.
Тимофеич рад нам, рад персонально
Максимычу, трясет ему руку, принимая
очередную посылку: «М-мн... м-э-э... и даже
кольца привез... вот спасибо, м-м-м...
молодец...» - приговаривает
он бабьим своим козлитоном, впрочем,
весьма добродушным. Максимыч ему всё
запчасти для лодочного мотора возил - по-моему,
моторов десять можно было из всех них
собрать. В авиации Тимофеич раньше
никогда не работал, он просто чей-то
родственник в управлении, и его здесь
устроили. Вот он-то и организовывал на
Кеже все рыбалки и ухи.
Это был поразительный персонаж. Ни я,
ни Максимыч не помнили его имени. Между
собой звали мы его «джин из бутылки». У
Тимофеича всегда все было наготове. Вот,
допустим, скажешь невзначай: «Леща бы
копченого домой привезти...» А Тимофеич
сперва постонет по-своему: «м-м-м... это...
леща-то я не знаю...», и
через полчаса тащит невесть откуда
сумку, из которой торчат гигантские
коричневые хвосты. Я один хвост подарил
как-то Ваше, и она, помнится, ох меня
отблагодарила как за леща-то... Или,
допустим: «Жалко, огурчика свежего нет».
«Это, м-мн... да-а, м-мн...» И не пойми где
отыскивает в избе свежие огурцы. Иван
Максимович однажды в поселок захотел за
папиросами сходить, хлопнул себя по
карманам кожаной куртки: «Мать твою,
деньги-то забыл»,- Тимофеич ему виновато
рубль протягивает: «м-м-мн, это, нету
больше-то...»
Дай Бог представителям нынешних
новомодных авиакомпаний быть такими «джинами»,
как Тимофеич, так встречать экипаж!
Летним вечером вода в Кеже
таинственно-темная. Берег - песочек.
Напротив качаются улыбчивые сосны,
стоящие плотным строем, сочно зеленятся
густые кусты и осоки. «Ну, тянуть не
будем!» - энергично восклицаю я,
сбрасываю форму и в предусмотрительно
надетых плавках подбегаю к воде. «Давай,
давай, нечего ежиться»,- вдохновляет
сзади Максимыч. Рывок ласточкой, руки
лодочкой, и - только что были циферблаты,
дрожащие стрелки, гул, тряска, переплет
высокого купола кабины и полотно земли
за натянутым кругом винта, а вот уже
золотисто-медовая сладкая вода блаженно
давит. Из бесконечности - в
бесконечность. Эх, удовольствие!
Помашешь саженками, побултыхаешься на
спинке, охладишься, подплываешь
лягушкой и вылезаешь, довольный пацан.
Изба, костер, совсем рядом самолет стоит,
на траве распростерты летная рубаха и
синие штаны - стоишь и думаешь, пока с
тебя капает на песок: «А ведь я летчик. Не
может быть!» Мне до сих пор иногда не
верится... Иван Максимович никогда не
плавал, а только осторожно входил в воду,
долго стоял в ней по пояс и умиленно
обливался. Тимофеич тем временем
хлопотал у костра и кликушествовал: «сейчас,
это, м-э-э... уже рыбу ложу...» И
действительно совал под крышку крупные
гнутые куски. Аэродром там был как бы
запретной зоной, Тимофеич ревниво
никого сюда не подпускал, представляя
нас местным в образе недоступной элиты,
лодки по реке проходили мимо, и никто
нашему пикнику не мешал. Я набрасывал
рубаху на мокрые плечи, то и дело кося
глазом на погон, сглатывал последние
полетные ощущения и, давя коленями
настеленный кусок брезента, пластал
тесаком чудесную резину местного хлеба.
Тимофеич лез в избу и нес оттуда
нежные очищенные луковицы, чеснок,
укроп. Максимыч молча добавлял к сему из
портфеля пакет с молодыми тепличными
огурчиками, пару редисин, личную
деревянную ложку. Ключом била и плевала
уха над костром, начиная издавать
несравненный свой вареный запах...
Тимофеич долго гремел чем-то в недрах
избы и, наконец, выносил оттуда с
причитаньями-междометиями половник,
ложки, глубокие железные миски, ронял на
брезент. Все получалось у него почти
автоматически, ощущался богатый опыт
гостеприимства... Иван Максимович мрачно
членил тесаком помидоры, разворачивал
газетку с солью, симметрично располагал
на брезенте посуду. Я, пока там все
собиралось, подходил к самолету,
привычно пахнувшему
трудовым жаром мотора и обшивкой -
просто так, постоять возле него. Был бы
конем он - по гриве похлопал бы... Колес
шасси совсем не видать в плотной
косматой траве, дыбившейся из-под
закрылка. Лететь на нем завтра...
«Твой-то, это... м-м-м... примет
маленько?» - спрашивает обо мне при мне
Тимофеич. «Да как хочет», - хитро ответит
Максимыч. «Будешь?» - выразительно
указует бровью на разлегшиеся рюмки
Тимофеич. «Рюмку выпью»,- пожимаю
плечами. «А не забуянит?» - опять
спрашивает про меня Тимофеич. «С рюмки-то?»
- смеюсь я. «У нас тут все, м-м-мн, с рюмки
начинается. Один второй пилот, тоже,
выпил, м-мн, и затем стремился нашу избу
поджечь, мы с командиром как у малого
дитенка все у него спички отнимали. А
потом чуть в реке не утоп - одетый зачем-то
поплыл». «Дурак Тарасов»,- с ухмылкой
назвал героя Максимыч. Этот Тарасов
летал потом вторым пилотом на блатном Ан-2,
том самом, что с полотенцами на креслах.
Вот как такой «моральный облик» там
оказался? «Ладно, этому немного налей»,-
разрешает Иван Максимович и строго ко
мне: «Смотри, тебе завтра опять всю
дорогу рулить». Он-то лучше меня знал,
что у нас вообще всё в России «с рюмки
начинается», и воспитывал, как мог... Я,
кстати, так и не знаю до сих пор, есть ли у
него свои дети (они с тетей Аней жили
вдвоем).
Беспрерывно блеющий и млеющий от
предвкушений Тимофеич («м-м-м... дак вот я
и говорю... это... вот так оно все и есть...»
и т.п.) наконец призывает: «Готовьте
тарэлки!» Весь в дыму и искрах, как шаман,
стаскивает он котелок и осторожнейше,
двумя руками несет его к брезенту,
погружает в специально выкопанное
углубление.
Легонько будто марганцовки
бросили в небеса; замалиновели облака,
золотистым леденцом засияли их каймы на
светлом Западе. Заострились вершины
сосен, в единую черную стену
преобразовался бор. Словно изнутри себя
бирюзой засияло небо, углубляя сферу
свою далеко ввысь. Перышки облаков на
нем невесомо распушились и полетели.
Монолитным силуэтом стоит наш «А-эН-2» с
торчащими палками винта. Мелочь в Кеже
бурно плещется, щука вовсю гоняет,
постреливает, малек поверху кувыркается,
однако уже не различить круги - вечерняя
вода жирна, чернильна. А вот и первая
звезда, и первый влажный холодок ночи!
Трясущимися, как у старухи, руками
выхватывает из самого пару белоснежные
куски Тимофеич, клацает половником по
тарелкам, сладко причитает. «Тебе, Иван
Максимович, послащеэ, пожирнеэ». «Ты вон
ему клади пожирнее, он молодой». «И ему
начерпаэм... хоть эту вот спинку, м-мн...»
Густо чадят тарелки, тускло
посверкивает костер, лишившийся котелка.
Запах дыма его совершенно естественно
сливается с ароматом ухи. Тимофеич
замолкает и торжественно, церемонно
разливает водку. Дождался! Максимыч
отвернулся и, как обычно, скорбно-равнодушно
глядит в сторону. Он тоже скинул рубаху,
в одной тельняшке - комаров на берегу
Кежи почему-то никогда не было. Я валяюсь
на брезенте, упершись подбородком в
ладонь, и едва терплю, чтобы немедля не
наброситься на уху, пахнущую совершенно
нестерпимо аппетитно. «Ну, с прилетом,
дорогие, будем здоровы!» - ласковой
тетенькой вещает Тимофеич. Стукаемся,
погружаем. Максимыч сперва весь как-то
прочнеет, изогнувшись, затем берет за
горло бутылку и вслух вчитывается в
этикетку: «Водка пше-нич-на-я. Сорок
градусов!» - выразительно декламирует он,
как актер. «Пшеничная, пшеничная!
хорошая!» - тут же подтренькивает
контрапунктом Тимофеич с шумной и
частой одышкой, сморкаясь и утираясь в
возбужденьи необычайном. Острый нос его
и кадык ныряют, как поплавки, белесые
глазенки моргают. «Ешьте, остынет, дак...»
И вот первая ложка с мутноватым бульоном,
янтарными разводами, крошками рыбы на
дне... Батюшки! Немыслимо... И уж затем
четверть часа деловитого хлебания,
сопения, черпания, стука ложек, всхлюпов,
откусываний, доставаний липких кусков,
тоненьких подвываний Тимофеича. Он
делается весь морщинистый и бордовый -
Дуремар, совершенный Дуремар! - и без
меры словоохотливый. Сперва несет его на
политику - Тимофеич костерит власти, как
бывалый диссидент - не боится: мы с
Иваном Максимовичем «не такие». («У
Брэжнева скоро от старости челюсть
отвалится. Боец, м-э-э-э!»).
Затем происходил смысловой переход
от несовершенств политической системы к
несовершенствам в целом мироздания: «да
и вообще, м-мн... как-то всё... неудачно в
мире устроено. Вот вино - первое зло! Все
знают, и... все равно... м-мн... ну, теперь за
Кежу нашу давайте; реченьку!» Потом, как
водится, переходит разговор на
эротику. Брызги летят Тимофеичу из
ложки на щеки, ко лбу прилепился вареный
плавник, но он лишь моргает и с
вдохновением повествует, размахивая
надкусанной луковичкой: «Прилетал тут
этот... Грызлов с управления...
Здоровый такой косой кабан... м-мн...
клыков разве только нету, жалко.
Косматый, страшный... весь в звездах...
Вторую допили,- найди мне, говорит, эту...
бабу! А где ж я ему найду среди ночи?
Найди, говорит, больно надо. Ну, я побежал
в поселок к сестры снохе... Она баба такая,
что... м-мн... завсегда пожалуйста. Все
семафоры открыты. Так и так, говорю,
Марьюшка. М-м-м. Большой человек без дамы
страдаэт, с ума сходит. М-э-э... утоли.
Глазами полыхаэт, бесстыдница (тоненько):
« А на самолетике меня покатают?» Куда,
думаю, тебя катать, когда в тебе целый
центнер массы, Хавронья дак! М-м-н... Тебя
самолетик-то и не подымет». «Ну и что?» -
без всякой заметной эмоции на лице
спрашивает Максимыч, долбя мизинцем зуб,
лишь котовски вздергивая флотский свой
ус. Я-то знаю, как любит он уху и такие
ночи, замечаю, что с удовольствием
прислушивается он к звукам реки и скрипу
сосен, что ко всему на свете он сейчас
благодушен. А слышно, как быстро течет,
беспокойно движется река, шепчет, как
резко разборчив каждый ее всплеск,
бормочет ее бегущая вода... «Дак чего! Я у
ней утром спросил... как, мол, Марьюшка?
Как все прошло? А она хохочет,
бесстыдница: только по стопке, говорит,
выпили, он поинтересовался, как зовут, я
говорю - Мария Евграфовна. А он: евгра!
евгра! - как говорящий попугай, и
повалился на меня да захрапел. Еле с себя
стащила лешего». (Меня и раньше поражали,
и теперь поражают такие сочетания -
дивного состояния природы и, на его фоне,
крайней человечьей мерзопакостности). «Ну
и покатали ее?» «Второй пилот разок по
кругу провез, довольна осталась». «Да и
ты, Тимофеич, перед начальством не
подкачал». «А как же! Я хитрый. У меня и
фамилия такая - Лисовин. Бывший
начальник АТБ, этот - Федюков, считает,
что я еврей. И ничего ему не докажешь!»
Облизав ложку, еле живой от чудовищной
порции и неописуемого вкуса съеденного,
желая, но не мога еще, бормочу: «Эх, с
собой бы свежей рыбки наловить, в общаге
угостить пацанов, да сил нету...» «Джин из
бутылки» склонился,
нащупал в полной тьме некую веревку,
топнущую в реке, и потянул. В воде
взбурлило, а затем всплыла над темно-сиреневым
ее желе сетка с выгнутыми хвостами,
сверкавшими во тьме серебром. «Хватит
тебе?!- с превосходством спрашивает
Тимофеич. - Утром еще и линька добавлю».
Может, он и вправду еврей?...
Ночь, звезды, глянцевая вода.
Тимофеич допил и роняет голову, словно
грудной младенец. Уж возгласил он с
избытком пафоса, с женской
сердобольностью: «Ну, товарищи летчики!
Давайте за работу вашу... сумасшедшую!»,
уж вычерпан последний кусок щуки, уж
побрел в избу распаренный
Максимыч на заранее постеленную кровать.
Тимофеич тоже засыпает прямо на
брезенте, трогательно улегся ухом на
сложенные ладоши и запищал носом. А я все
гляжу и гляжу на реку, на звезды, на
тлеющий пепел костра, на суровую в ночи
стену бора. Наедине с этой
живительной глушью, с собой, с
предстоящей жизнью и работой. Хорошо!
Облегает холодок с воды, изредка тихий
ветер пошевелит
траву. Все еще впереди... Впереди. И
шепчет всё о чем-то
река...
2001
©
А.Б.Вульфов, 2001. Авторские права на
произведение «Уха на Кеже»
зарегистрированы и защищены.
Запрещается какой-либо вид
использования произведения без
письменного разрешения автора, кроме
прочтения.
©
Alexey_Voulfov, 2001. ALL RIGHTS RESERVED.

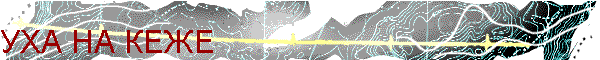

![]()